
В наше время нередко можно услышать фразу: «Зачем ходить в храм? У меня Бог в сердце!» Казалось бы, такому человеку можно только позавидовать. Действительно, если у тебя Бог в сердце, то посещение храма выглядит каким-то излишеством. Но здесь возникает вопрос: насколько обоснована эта уверенность? Может, бог находится у этого человека в какой-нибудь другой части тела, например, в желудке? А может, и сам желудок стал для человека богом, по слову апостола Павла: Их бог — чрево (Флп. 3, 19).
Но если человек прав, и его сердце действительно стало обителью бога, то можно ли быть уверенным, что это Бог истинный, а не тот, который силится выставить себя Богом, не являясь таковым? Вот что говорит об этом святитель Феофан Затворник: «Постника и молитвенника издали чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего хозяина всякому злу» [1]. Другими словами, человек может пребывать в уверенности, что стал храмом Духа Божия, будучи игралищем нечистых духов.
Кто-то скажет: «Вот, я пощусь и молюсь, только в храм не хожу». На это можно ответить, что молиться и поститься есть дело, конечно, доброе и необходимое, но само по себе недостаточное.
Если христианин, пусть и не оставляя личной молитвы, по своей воле удаляется от храмового богослужения, то, согласно святым отцам Церкви, это является показателем духовного нездоровья. Преподобный Варсонофий Оптинский предлагает на эту тему следующее рассуждение. У одного святого отца спросили: «Есть ли верные признаки, по которым можно узнать, приближается ли душа к Богу или отдаляется от Него? Ведь относительно обыденных предметов есть определенные признаки — хороши они или нет. Когда, например, начинают гнить капуста, мясо, рыба, то легко заметить это, ибо испорченные продукты издают дурной запах, изменяют цвет и вкус, и внешний вид их свидетельствует о порче.
Ну а душа? Ведь она бестелесна и не может издавать дурного запаха или менять свой вид». На этот вопрос святой отец ответил, что верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь. Сначала старается прийти к службе попозже, а затем и вовсе перестает посещать храм Божий [2].
Таким образом, стремление к церковной службе является для христианина тем духовным камертоном, с которым мы можем всегда сверять состояние своей души. Признаком того, что Бог пребывает в сердце, является любовь к храмовому богослужению.
Это можно уподобить человеческим отношениям. Если мы любим кого-то, то мы стараемся быть рядом с ним. Если мы скажем, к примеру, своему другу: «Ты всегда со мной, ты у меня в сердце, поэтому я не пришел поздравить тебя с днем рождения», — то вряд ли мы услышим в ответ слова одобрения и понимания. Так же и с Богом. Если Бог у нас в сердце, если мы любим Его или хотя бы стремимся к этой любви, то как же мы не почтим День Рождения или Воскресения Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, перенесшим ради нашего спасения унижения, боль и смерть, как забудем о памятной дате Божией Матери, через Которую мы получили доступ к воплотившемуся Богу, или пренебрежем днями празднования Небесных Сил бесплотных и святых, предстоящих пред престолом Божиим и неустанно молящихся о нас, ленивых, грешных и сильных лишь на слова самооправдания?
В центре храмового богослужения находится величайшее христианское таинство — причастие Тела и Крови Христовых. Все богослужение построено так, чтобы подготовить нас к этому таинству наилучшим образом, и является уже само по себе преддверием и предвкушением нашего вечного пребывания с Богом. В церковной службе видимым образом проявляется учение о Церкви, как о Теле Христовом. Церковь — это христиане, соединенные со Христом в единый богочеловеческий организм. Как телу естественно сохранять единство, так и для христианина естественно стремиться к единству с главою Церкви — Христом и со всеми христианами, объединенными во Христе в единое тело. Поэтому участие в богослужении является для христианина не тяжкой повинностью, не суровым наказанием или изощренной пыткой, а неким природным и жизненно необходимым устремлением. Отсутствие такового должно служить нам сигналом того, что мы духовно больны и находимся в серьезной опасности, что наша жизнь требует скорейшего исправления.
Конечно, не всегда нам легко участвовать в общественном богослужении, не всегда хочется. У каждого случаются состояния, когда приходится себя заставлять идти в храм. Но без этого духовная жизнь невозможна.
Откуда в нас эта тяжесть, это нежелание? Все оттуда же — от наших страстей, которые настолько вошли в наши души, что стали для нас как бы второй природой («привычка — вторая натура»), от которой без труда и без болезни не избавишься.
Влияние богослужения на страсти можно сравнить с действием света на обитателей темной пещеры. Животные и насекомые, привыкшие к ночи и мраку, при появлении света приходят в движение и стремятся улететь, убежать, уползти в места привычные, в места темные, «безопасные», удаленные от света.
Так и страсти в нас, пока мы далеки от Церкви, от храма, от богослужения, дремлют в привычном и уютном душевном мраке. Но стоит нам прийти в храм на службу, и словно бы все силы ада восстают в наших телах и душах. Ноги ватные, в голове туман, спина болит… Да и вокруг все возмущает: чтецы читают непонятно, певчие сбиваются и фальшивят, священника или нет, или он куда-то торопится, у дьякона вид вызывающий, в церковной лавке отвечают нелюбезно, все какие-то мрачные, а если шутят и улыбаются, то это тоже раздражает («в святом-то месте!») и т.д. т.п. Ну и, конечно, фоном мысль: «Что я тут делаю?». И если не понимать необходимости храмовой молитвы, то шансов удержаться в храме почти нет. Тем не менее истинного утешения мы нигде, кроме храма, не получим.
Многим знакомо состояние уныния, или, как сейчас принято выражаться, депрессии, когда ничто не радует и все теряет смысл. В храм в этом состоянии также идти не хочется. Но православные люди знают, что если все же заставишь себя и доберешься до храма и богослужения, то все каким-то чудесным образом меняется. Вроде и простоял-то на службе бестолково, молитв почти не слышал, сам не столько молился, сколько пытался справиться с душевной бурей или с роящимися мыслями, а выходишь из храма, и на сердце — мир. Вроде бы внешне ничего не изменилось, обстоятельства все те же, но они уже не кажутся такими непреодолимыми, как раньше.
И это неудивительно. Ведь в храме наша несовершенная молитва получает полноту, соединяясь с молитвой всей Церкви Христовой, в которой Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8, 26). Поэтому в большинстве случаев даже самая глубокая и сосредоточенная частная молитва не будет для души столь благотворной, как пусть и несовершенная молитва церковная.
Святые отцы часто называют храм «небом на земле». В нем мы соприкасаемся с миром горним, входим, если так можно выразиться, в пространство вечности. Здесь мы получаем усмирение страстей и защиту от насильственного влияния злых духов, делаясь (по крайней мере на время) недоступными для них. Каждый раз, входя в пространство храма, мы совершаем свой личный малый исход из мира, который лежит во зле (1 Ин. 5,19), и избегаем его смертоносного жала.
Действие общественной молитвы есть обратная сторона двоякой заповеди Божией о любви к Богу и к ближнему, поскольку личная молитва каждого христианина, молящегося в храме, усиливается, с одной стороны, молитвами других молящихся, а с другой — энергией Божественной.
Вот что писал об этом наш древнерусский святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский: «Не будь лжив, под предлогом телесной немощи не отлучайся от церковного собрания: как дождь растит семя, так и церковь влечет душу на добрые дела. Все маловажно, что творишь ты в келии: Псалтирь ли читаешь, двенадцать ли псалмов поешь, — все это не сравняется с одним соборным: «Господи, помилуй!» Вот что пойми, брат мой: верховный апостол Петр сам был церковь Бога живого, а когда был схвачен Иродом и посажен в темницу, не молитвами ли Церкви был он избавлен от руки Ирода? И Давид молится, говоря: «Одного прошу я у Господа и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и рано посещать святой храм его». Сам Господь сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». «Где, — говорит он, — двое или трое собраны во имя мое, там Я посреди них». Если же соберется такой собор, в котором будет более ста братии, то как же тебе не верить, что тут Господь Бог наш»[3].
Конечно, порой случаются объективные обстоятельства, действительно препятствующие посещению храма. Но не всё, что кажется нам препятствием, является таковым в очах Божиих. В этом отношении показателен случай, описанный в житии праведной Иулиании Муромской: «Одна же зима была столь студеная, что земля расседалась от мороза. И не ходила она некоторое время в церковь, но молилась Богу дома. И вот однажды пришел поп той церкви рано утром один в церковь, и был глас от иконы Пресвятой Богородицы, глаголющий так: “Иди, скажи милостивой Улиянии: что в церковь не ходит на молитву? Хотя и домашняя молитва ее Богу приятна, но все не так, как церковная»[4].
Для человека, утвердившегося на пути божественном, посещение церковной службы становится потребностью не меньшей, а порой даже большей, чем питание телесное. Особенно остро ощущают эту потребность святые. Так, праведный Иоанн Кронштадтский признавался: «Я угасаю, умираю духовно, когда не служу в храме целую неделю, и возгораюсь, оживаю душою и сердцем, когда служу…»[5].
Впрочем, и сегодня, наверное, в каждом православном храме можно встретить хотя бы одну прихожанку, которая, подобно евангельской Анне пророчице (ср. Лк. 2, 36–37), почти постоянно пребывает в храме. При том, что окружающие этому обыкновенно отнюдь не способствуют. И близкие ее укоряют, и свои, православные, убеждают поумерить пыл, а она, превозмогая годы и болезни, едва ли не ползком, а все стремится на любезную изболевшемуся сердцу «обедню».
В заключение хочется привести удивительный пример непобедимой любви к Божественной службе одной из греческих подвижниц благочестия XX века: «Боголюбивая Кети не хотела пропускать ни одной вечерни и литургии. Она желала ходить на службу каждый день, поэтому искала храмы, где литургия совершалась и в будни. Она жертвовала своим сном, совершала многочасовые пешие переходы, лишь бы не пропустить Божественной литургии <…>
 Кети старалась познакомиться со священниками всех соседних селений, чтобы была возможность приглашать их отслужить литургию. Чаще ходила в храм Пантанассы. Ночью переходила реку Лурос по веревочному мостику. Часто зимой он покрывался льдом, а у Кети всегда было по несколько сумок с продуктами для бедняков.
Кети старалась познакомиться со священниками всех соседних селений, чтобы была возможность приглашать их отслужить литургию. Чаще ходила в храм Пантанассы. Ночью переходила реку Лурос по веревочному мостику. Часто зимой он покрывался льдом, а у Кети всегда было по несколько сумок с продуктами для бедняков.
Один раз, когда мост снесло водой, на другой берег ей помог перебраться один старый пастух. Порой ей доводилось проводить в пути много часов. Однажды на Кети напали собаки, в другой раз она встретила медведя, но звери не причинили ей никакого вреда.
Трудно описать все, что случалось с Кети. Телефонов тогда не было. Как-то раз никто из знакомых иереев не предупредил ее о литургии. После работы Кети все же отправилась в путь. Сначала дошла до Филиппиады. Затем побывала в селениях Камби, Пантанасса, Святой Георгий. Но нигде службы не было, а тем временем стемнело. Кети (по-прежнему пешком) отправилась в Керасово, а оттуда в Вулисту, где к ней присоединилась сестра батюшки. По дороге они оступились и упали в яму. Женщины по колено провалились в асбест. Привели себя в порядок и отправились на литургию. Всего за вечер и ночь Кети прошла расстояние 30 километров. И так бывало нередко.
<…> Однажды в храме Кети упала со стула, на который забралась, чтобы зажечь лампадки. У нее случился перелом бедра. Она попала в больницу, где ей был прописан постельный режим. Но как она тогда смогла бы посещать службы? Хромая, она вышла из госпиталя, остановила машину и поехала в храм святого Георгия селения Филиппиада, где служил ее знакомый — отец Василий Залакостас. Там она легла в храмовом притворе. Двадцать дней и ночей она провела в церкви. Ежедневно приезжал священник и совершал Божественную литургию.
Однажды зимой случилось сильное ненастье. Ветер с корнем вырывал деревья. Но и это не стало препятствием для Кети. Ни секунды не сомневаясь, она отправилась на литургию, но обратно долго не возвращалась. Коллеги в волнении ждали Кети. Наконец она показалась. Ее лицо радостно сияло, хотя все ноги (насколько они были видны под ее длинным платьем) были в крови. Она объяснила, что опоздание связано с тем, что ей приходилось перелезать через поваленные деревья, встречавшиеся у нее на пути.
Так что же все-таки чувствовала Кети во время Божественной литургии? Наверное, это было что-то необъяснимое, если она, превозмогая все трудности, делала все возможное и невозможное, чтобы попасть на службу. Она сама пела, одаривала священников, носила с собой тяжелые богослужебные книги.
Иногда она ходила на ночную службу, а утром спешила еще на одну Божественную литургию. А потом, навещая своих знакомых и слыша, как по радио транслируют службу, становилась на молитву в третий раз. Она вставала на колени и творила земные поклоны. Никакой шум не мог ее отвлечь. <…>
Ее любовь к богослужению была такова, что часто, засыпая, она шептала: «Церковь, Церковь…»»[6].
Остается лишь пожелать всем нам стяжать хоть малую толику той любви к церковному богослужению, которая описана в этих строках!
Андрей Горбачев
Просмотров:22

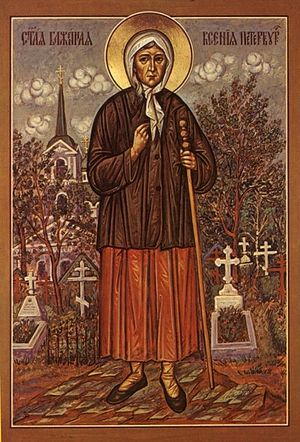

 Идет загрузка ...
Идет загрузка ...